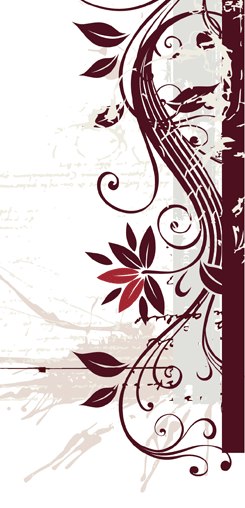АВЕРЧЕНКО В СЕВАСТОПОЛЕ
© В. Д. Миленко
При цитировании ссылка на сайт обязательна!
Севастополь - ключевой в судьбе писателя город. Здесь он родился и жил до шестнадцати лет, отсюда 13 ноября 1920 года эмигрировал.
Предлагаем фрагмент учебно-методического пособия В. Д. Миленко "Севастополь в судьбе и творчестве писателей Серебряного века" (Севастополь, 2010), рассказывающий о буднях и контактах Аверченко в тревожном 1919 году.
3D реконструкция дореволюционного Нахимовского проспекта в Севастополе.
Его больше нет, но Аверченко знал его таким...
Дом по Нахимовскому проспекту, 30, в котором поселился писатель, заметно выделялся великолепным фасадом в четырнадцать окон, балконами и магазинами с роскошными интерьерами (но пустыми прилавками). На противоположной стороне улицы, чуть левее, красовался бывший доходный дом купца Гавалова; Аверченко ещё помнил те времена, когда на первом его этаже работал магазин готового платья знаменитых братьев Альшванг. Ещё несколько левее – дом Койчу с гастрономом Ичаджика и Кефели, в котором продавали теперь ткани, ботинки немыслимых размеров, какое-то сухое варенье, а также билеты на концерты и спектакли. Никого это не удивляло. «Нахимовский проспект – это всё равно, что Невский проспект! Мне повезло», - успокаивал себя Аркадий Тимофеевич в те дни, когда дом № 30 начинал особенно шуметь. Кроме полчищ беженцев, издававших крики, стоны и отчаянные мольбы, здесь в одной из квартир размещался игорный дом «Русского собрания», в другой – городской аукционный зал.
Центр Севастополя такой, каким его знал писатель.
…Первого ноября 1919 года писатель встал засветло, напился чаю с мутно-серым сахаром, добытым где-то горничной, и сел за работу. Завтра – двухлетняя годовщина основания Добровольческой армии. Утром будет молебен на площади Нахимова, потом парад, днём – народное гуляние, вечером – концерты. Сам он приглашён участвовать в концерте в Морском собрании вместе с близкой подругой, бывшей артисткой московского кабаре «Летучая мышь», Марией Марадудиной. Сегодня они договорились встретиться в полдень на Графской пристани, пообедать вместе и обсудить завтрашнее выступление. Однако кое-что еще нужно сделать – написать обращение от лица артистов к севастопольцам и занести его в редакцию «Юга» - газеты, в которой Аверченко работал уже четыре месяца фельетонистом.
Аркадий Тимофеевич обмакнул перо в чернильницу, с минуту подумал и набросал такой текст: «Граждане! Сегодня, в день основания Добровольческой армии, мы безвозмездно отдаём свой труд в пользу героической Добровольческой армии. Театр Морского собрания весь чистый сбор отдаёт в пользу Добровольческой армии. Театр Зимнего городского собрания – тоже»… Перечислив все городские зрелищные заведения, писатель закончил воззвание так: «Днём – всё население на улицы! Вечером – всё население в театры! Долой равнодушных! Да здравствует Великий День освобождения России».
Затем он долго одевался, тщательно следя за тем, чтобы шарф аккуратно лег под воротник пальто и не закрывал крахмального воротничка, чтобы шнурок пенсне лежал красиво, наконец, чтобы фуражка была заломлена чуть-чуть влево, самую малость… Что поделаешь, в Петербурге он стал щёголем. Наконец, вышел, опираясь на изящную трость, и направился на Екатерининскую, 20 – в редакцию «Юга».
Не успел Аверченко открыть дверь парадного подъезда, как немедленно оказался в окружении жильцов дома. Каждый старался перекричать другого:
- Аркадий Тимофеевич, читали вчера с женой ваш фельетон «Короли у себя дома». Как вы Ленина с Троцким отделали! Чем сегодня нас порадуете? Ну, напишите же, наконец, чтобы власти решили жилищный вопрос, нужно же как-то разгружать город. Ну, что же это такое? У нас даже на чердаке живет какая-то семья, жжет керосинку. А если пожар?
- Аркадий Тимофеевич, ну вы цены эти на рынке видели? Ну, неужели ничего нельзя сделать с этими спекулянтами проклятыми? Напишите, голубчик, фельетон, авось к вам прислушаются!
- Аркадий Тимофеевич, напишите - пусть обратят внимание на отопительную проблему. Мы уже стопили весь паркет! Скоро мебель в ход пойдёт.
- Господа, господа! – отбивался Аверченко. - Я делаю всё, что могу. Вы думаете, что я от всего этого восторг испытываю? Да мне до недавнего времени писать было нечем – хорошо, какая-то сердобольная душа перьев прислала. Да и пишу я тоже в полумраке, а у меня близорукость. Всенепременно всех вас уважу: будет и квартирный вопрос, и топливный кризис и чёрт в ступе! Обещаю!
Бочком протиснувшись в редакцию, Аверченко отдал объявление наборщику, вышел через чёрный ход и направился в сторону Графской. До встречи с Мухой (так звали актрису Марию Марадудину друзья) оставалось еще полчаса, поэтому писатель шёл не спеша, наблюдая жизнь города. Вот он остановился у папиросного лотка, спросил пачку, протянул пятьдесят рублей. Продавец вынул сдачу – потертую полуразвалившуюся 25-рублёвку, но дунул ветер и вырвал у него из рук ветхую бумажку. Продавец снова поймал ее налету – та в его руках развалилась на две части. Он прорычал проклятие, подхватил падающую половину, и она в его руках снова развалилась уже на две четверти. Аверченко терпеливо ждал, чем кончится. Продавец разъярился: схватил все развалившиеся кусочки, скомкал их и бросил на тротуар. Порылся в ящике и дал Аркадию Тимофеевичу другую бумажку, покрепче. Ветер унес брошенный комок. «Действительно, - прокомментировал это Аверченко. - Кому он нужен? Что на него купишь?».
Вздохнув, он неспешно пошёл дальше. Вот в музей обороны идёт строй мальчиков – это новобранцев Морского кадетского корпуса ведут на экскурсию. Лица у всех вдохновенные. Из Никольского собора выходят счастливые молодожены: он – офицер, она – не помнящая себя от радости местная, провинциальная барышня… Из соседней Михайловской церкви доносится гул заупокойной молитвы. Судя по двум часовым у входа, отпевают кого-то из высоких чинов.
У гостиницы Ветцеля, где ставят выездную визу, как обычно, змеится огромная очередь. Некоторые полулежат под деревьями – они дежурят здесь с ночи… Неожиданно кто-то хватает Аверченко за рукав:
- Аркадий Тимофеевич, ну, что - получили?
Перед ним стоит один случайный знакомый.
- Что именно?
- Ну да, ну да! Нечего там простячком притворяться. Около Ветцеля зря никто не крутится.
- Да я иду из редакции.
- Да, да. Знаем мы эти редакции. На чем едете?
- Куда?
- Вы в Болгарию или в Константинополь?
- Скажите же мне – почему я должен ехать? Разве положение на фронте так плохо?
- Да вы что… С луны свалились, что ли? Или вам за ваш оптимизм большие деньги платят?
- Нет… Я совершенно бесплатно.
- То-то и оно. Вопрос с Крымом – конченый вопрос. Самое позднее – большевики через два-три дня в Симферополе, а через неделю займут Севастополь.
Еле сдерживая раздражение, Аверченко возражает:
- Ну, что вы… Дела на фронте могут еще поправиться.
Его собеседник хохочет:
- Вам-то уж, газетному человеку, стыдно быть таким ребенком. Даю вам честное слово – я имею самые точные сведения, что ровно через неделю весь Крым будет сдан и большевики докатятся до Севастополя.
Аверченко не выдерживает:
- Откуда сведения? Cам Деникин давеча держал вас за пуговицу и сообщил, что не может скрывать от вас положения, мол, дело Добровольческой армии окончательно погибло? Стыдитесь!!!
И писатель, сердито нахмурившись, спешит прочь от гостиницы Ветцеля – этого храма рухнувших надежд. Проходит мимо Морской библиотеки. Швейцар у входа кланяется ему едва ли не в пояс и даже осмеливается заговорить: «Аркадий Тимофеевич, дорогой вы наш! Спасибо, что прописали в газете о нашем тяжелом положении. Зарплату-то нам повысили после вашего фельетона, а то что ж – совсем голодали!».
На площади Нахимова – столпотворение. Гарнизон репетирует парад. Аверченко замедляет шаг у Морского собрания, чтобы проверить, правильно ли составлена афиша завтрашнего концерта. Вроде, всё на месте: распорядитель вечера – Мирон Якобсон, автор гимна Добровольческой армии «Трехцветный флаг»… при участии Арк. Аверченко, М. С. Марадудиной, В.Н. Саниной (ах, как был влюблён в Валентину Санину Вертинский! Интересно, он знает о том, что она здесь?)…играть будет оркестр крейсера «Генерал Корнилов»… начало в полдевятого вечера…вход свободный…
- Ба! – вдруг услышал он. - Какие люди! Аркадий, дорогой!! Вот не было печали, так подай!
По ступеням Морского собрания спускается сам Кока Ходотов – легендарный питерский актёр, «премьер» Александринского театра! Да он не один – с ним его бессменный аккомпаниатор Женя Вильбушевич.
- Друг мой, ты совсем сошёл с ума! – смеется Аверченко, обнимая давнего приятеля. - Правда, ты давно уже разговариваешь одними цитатами из своих ролей, однако печаль-то здесь причем? Или ты не рад меня видеть, правнук собаки?!
- Это у Коки после удара, - подаёт голос Вильбушевич. - Он и слова путает… Не обижайтесь.
- Кока, прости. Я болван… Я не знал. Давно ты в Севастополе?
- Лечиться приехал. Нашёл я время, да? Вот Вильбушевича из Ялты высвистал – так что не соскучимся.
- Квартиру нашли?
- В Кисте два номера снимаем.
- Однако веселая компания подобралась. Когда же ты успеваешь лечиться?
- А ходить-то недалеко – в Инфизмет. Меня наблюдает сам Щербак[2]! Во как! …Да что всё о болезни! Немедленно идём обедать, я тебя так не отпущу! А пойдемте к нам в Киста! Есть о чем поговорить, что вспомнить!!
- Ну, от обеда я никогда не отказываюсь. Однако я не один - с дамой.
Ходотов добродушно смеётся:
- А когда ты бывал без дам? Кто она на сей раз? Или секрет?
- Секрета нет. Это Муха, она ждёт меня на Графской.
- Муха! Марадудина! И она здесь!! Ну, прекрасно! Украсит нашу мужскую компанию. Ну, пойдем же. В Киста готовят… - И Ходотов что-то страстно зашептал на ухо Аркадию Тимофеевичу, увлекая того за собой. Оба были гурманами.
Мария Семёновна Марадудина имела настолько яркую внешность, что не потерялась даже в толпе. Приятели увидели её издали: царственная осанка, какой-то немыслимо-экстравагантный наряд, широкополая шляпа, из-под которой выбиваются кольца ярко-рыжих волос. Одним словом, актриса.
- Аркадий, родненький, мальчик мой дорогой, - немедленно защебетала она, - спасибо, что не дал мне погибнуть голодной смертью, пристроил в концерт! Ах, Кока, рада тебя видеть! Как твое здоровье? Постарели мы все! Где наша юность, наша свежесть, наш Петербург! Помню тебя Раскольниковым… Ах, как ты играл!
- Полно, Мария Семёновна, что вспоминать о том, кем мы были когда-то? – отмахнулся Ходотов. - Теперь все мы никто. И я не премьер Александринки, и Аркадий не редактор «Сатирикона», и ты не конферансье «Летучей мыши». Мы просто бродяги, которые завтра будут собирать своим талантом деньги на нужды Добровольческой армии…
Невольно вздохнув, все четверо, проталкиваясь через ряды военных, направились в ресторан гостиницы Киста.
***
Метрдотель распахнул им свои объятия и немедленно усадил за столик, приговаривая: «Сей момент! Такие высокие гости-с! Обслужим в лучшем виде-с!». Затем жестом вызвал официанта и удалился встречать новых посетителей. Изучая меню ресторана, Аверченко с Ходотовым то и дело восклицали:
- А помнишь ты горячие закуски в «Вене»!
– А соус марис-субиз у «Контана»!
- А устриц в «Медведе»!
Оба невольно вспоминали сейчас все свои любимые петербургские рестораны. Однако в гостинице Киста названия блюд были не хуже: суп Консоме-Рителье, севрюга Мотонген, котлеты Монгля. На десерт - пудинг Несельрод, кизиловое, грушевое мороженое. Вина – крымские, из массандровских подвалов. Коньяк греческий – «Метакса». При виде этого названия Аверченко сморщился и прошипел: «У-у, мутный спирт пополам с бензином. Туалетным мылом отдаёт…».
Сделав заказ, немедленно заговорили на излюбленную тему: кто где скитался за это время, кто как унёс ноги из Петрограда.
- Я от всех расстройств в Александринке заболел, - рассказывал Ходотов, - выпросил отпуск для лечения в Крыму. Вот, приехал. Что дальше – понятия не имею. Возвращаться в родной театр и снова видеть голодных актёров и разворованный реквизит, разобранную на дрова сцену! Нет моих сил… Аркадий, а тебя где носило, признавайся? Ты так внезапно исчез из Петрограда.
- А что вы мне прикажете делать? Ленин и Троцкий, видите ли, как-то оскорбились, когда мой «Сатирикон» назвал их проходимцами и немецкими провокаторами… Запретили мой журнал сначала, потом вообще отправили ко мне своего посланца в грузовом автомобиле с приглашением на Гороховую, 2[3]. Вот с тех пор вся моя жизнь подчиняется короткой формуле: ехать так ехать. Уехал я в Киев — большевики добрались до Киева. «Ехать так ехать!» - сказал я и рванул в Харьков; коммунисты за мной; я из Харькова в Ростов — они за мной, я сюда, в Севастополь — они все время, как несчастная шавка за своим хозяином, — бегут за мной.
В это время в зале появилась колоритная пара: высокий, очень худой юноша с гладко зачесанными назад светлыми волосами и капризным выражением лица, а с ним – напротив, невысокий, коренастый мужчина, по виду намного старше своего спутника. Оба держались важно и на приветствие метродотеля улыбались снисходительно.
- Черт возьми, никак Вертинский с Путятой! – немедленно узнал обоих Ходотов. – Александр Николаевич! Шурик! К нам, к нам!
Тот, кого назвали «Шуриком», как-то вздрогнул, недоуменно посмотрел на Ходотова, потом на лице его расцвела улыбка.
- Нам сказали, что пообедать сносно можно только здесь, - сообщил он, подходя и протягивая всем руку.
- Присоединяйтесь к нам. Вы из Ялты? Как доехали? По слухам, у Байдарских ворот «зелёные»[4] прямо свирепствуют!
- А мы морем. На яхте! – бросил Путята, размашисто садясь за стол и что-то шепча официанту.
- Приехали развеяться?
- Да так, - уклончиво ответил Вертинский, - в Ялте скучно… А здесь вроде праздник завтра, отчего бы и не приехать. Выступать принципиально не буду, мне осточертел этот «Ренессанс», в котором по ручкам кресел ползают вши… Ну, а вы тут как? Что поделываете?
- Да так, кой чего… Я пописываю, Кока вот поигрывает…- Аверченко внимательно посмотрел на Вертинского и вспомнил свои мысли под афишей Морского собрания – уж не ради ли Валентины Саниной тот приехал? Если правда, то зря! Красавица Санина уже давно имеет роман с Георгием Матвеевичем Шлее – не то адвокатом, не то коммерсантом. Бог его знает.
Вертинский немедленно закурил (он курил не переставая), потребовал коньяка и после первых же рюмок, поникнув головой, застонал:
- Я знаю, что она здесь. Я не могу ее забыть, всё время вспоминаю, как первый раз увидел. Эти безмятежно-спокойные огромные голубые глаза с длинными ресницами, эта узкая, редкой красоты, рука с длинными пальцами. Ее голова точно в золотой короне. Она была похожа на пушистую ангорскую кошку, лениво тянула через соломинку какой-то коктейль и спокойно разглядывала меня перед тем, как проглотить. Я сразу понял, что погиб…
И безо всякого перехода он начал читать свои стихи:
Вы стояли в театре в углу, за кулисами,
А за Вами, словами звеня,
Парикмахер, суфлер и актеры с актрисами
Потихоньку ругали меня.
Кто-то злобно шипел: "Молодой, да удаленький.
Вот кто за нос умеет водить".
И тогда Вы сказали: "Послушайте, маленький,
Можно мне Вас тихонько любить?"
«Бедный мальчик!» - прошептала Марадудина и погладила Вертинского по руке. А тот, помолчав немного, обратился к Аверченко:
- Аркадий Тимофеевич, я слышал, что она теперь с каким-то Шлее. Не знаете, это правда? Правда?
- Увы, мой друг, увы. Это правда. Однако обещайте мне, что вы не будете сейчас выпрыгивать с балкона, рыдать или совершать еще какие-нибудь глупости. Бросьте, право. Есть о чём жалеть!
- Аркадий, ты несправедлив к нам, женщинам! – возмутилась Марадудина. – По-твоему выходит, что из-за нас и пострадать нельзя. Впрочем, твоя позиция давно известна.
- Да, моя позиция известна: остерегайтесь женщин! С ними нужно обращаться, как с ручной гранатой. И никогда не женитесь. Кто хочет жить, как собака, и умереть, как человек, - тот женится. Кто же хочет жить, как человек и умереть, как собака, тот останется холост. Лично я придерживаюсь второго варианта.
- Я голосую «за»! – поддержал Аверченко Ходотов.
- Ну, а я в таком случае воздержусь! – засмеялся женатый Вильбушевич.
- Однако, друзья мои, пошутили и будет, - Аверченко внезапно стал серьезен, - не сочтите за труд не обижаться на нас с Марией Семеновной. Мы минут десять не будем участвовать в общем разговоре ибо нам необходимо обсудить завтрашний совместный концерт. Еще раз прошу простить.
- Извиняться незачем, - заявил Ходотов, - а в обсуждении я лично тоже хочу участвовать. Я не видел тебя сто лет. Что ты написал за это время? Почитай что-нибудь.
Остальные тоже выразили искреннее желание послушать.
- Мне кажется, - начал Аркадий Тимофеевич, - что можно исполнить завтра два моих памфлета: «Фокус великого кино» и «Короли у себя дома». Первый – это такая фантазия: что если бы нашу жизнь можно было запустить назад, как пленку кинофильма, и остановиться на том месте, где мы были бесконечно счастливы!.. Кстати, на каком месте вы бы остановились, господа?
- Я на своём московском бенефисе 25 октября 1917 года! - не задумываясь, ответил Вертинский. - Это был мой триумф! Надо же было случиться так, чтобы он совпал с большевистским переворотом. С тех пор всё катится по наклонной…
- А я на нашем Брусиловском прорыве, - неожиданно подключился сидевший за соседним столиком полковник, давно прислушивавшийся к разговору. – Да если бы не большевики, мы бы уже победоносно вступили в Берлин!
- А я бы на 5 декабря 1917 года, - тихо сказала молодая спутница полковника. – Пусть бы моя доченька лучше не рождалась, чем умирать от голода!
- Аркадий, а как у тебя в тексте? – спросила Марадудина.
- У меня? У меня это манифест 17 октября 1905 года, данный Николаем II свободной России…Да ведь это, кажется, был самый счастливый момент во всей нашей жизни! Впрочем, послушайте, памфлет небольшой. – И Аверченко начал читать: «Отдохнём от жизни. Помечтаем. Хотите?...Ах, если бы наша жизнь была похожа на послушную кинематографическую ленту! Повернул ручку назад – и пошло-поехало…».
Памфлет вызвал всеобщее одобрение, а Марадудина тут же стала репетировать ту интонацию, с которой она будет произносить: «Крути, Митька, крути!». Над следующим памфлетом – «Короли у себя дома», изображающим семейную перебранку Ленина и Троцкого, дружно смеялись.
- Знаете ли, друзья, - сказал Аверченко, - я хочу собрать этакую чёртову дюжину памфлетцев и фельетонов в книжечку, которая стала бы неким «антикоммунином» - прививкой от большевизма. Чтобы любой прочитавший бежал от большевиков, как от чумы. И название нужно бы дать какое-то действенное. «Дюжина ножей в спину революции», например.
- Ах, Аркадий Тимофеевич, - медленно протянул Вертинский, - что можно сделать книжечками? Это иллюзия. Бросьте вы ваши дюжины ножей. Пугаете, пугаете, а не страшно. Уже даже не страшно – настолько мы отупели и ко всему привыкли. Некоторые вон вовсю уезжают…
- А-а, и вы туда же?
- Я? Я как раз еще чего-то жду. А многие уехали – и устроились в Константинополе недурно, зовут. А здесь что? Грязь, кровь, разврат…
- Ну, грязи, полагаю, и в Константинополе достаточно, - отшутился Аверченко, – однако я лично уезжать не собираюсь.
Вертинский в ответ лишь пожал плечами и продолжал меланхолично курить одну папиросу за другой.
- Предлагаю пойти пить кофе и есть мороженое где-нибудь на свежем воздухе, - вмешалась в этот скользкий разговор Марадудина, - здесь так накурено, что у меня голова кружится. Правда, господа, пойдёмте на Приморский бульвар! Там, наверное, уже играет оркестр!
Предложение встретили с одобрением и направились в «Варшавскую кондитерскую» Ветинского – роскошное заведение на Нахимовском проспекте, где подавали вкуснейший кофе, горячий шоколад, кефир, мороженое. Заняли два столика на открытой веранде второго этажа, откуда открывался вид на море. Все невольно примолкли, любуясь панорамой Северной стороны, плывущей в бликах закатного зарева.
- Я знаю в этом городе каждый камень, - задумчиво сказал Аверченко. – И, знаете ли, в детстве я недоумевал, как можно жить в Севастополе, когда существуют Филиппинские острова, южный берег Африки, пограничные города Мексики, мыс Доброй Надежды, реки Оранжевая, Амазонка, Миссисипи и Замбези? Всё мечтал удрать отсюда в Америку… Потом в Питере нет-нет да и вспоминал родину, когда писал детские рассказы. Как только сяду за этакий рассказец, так сразу передо мной возникают Хрустальная бухта, наша Ремесленная канава, мать, отец, сёстры… А теперь я счастлив, что я здесь. Вся моя большая родина – Россия - сжалась до размеров Севастополя. Мог ли я даже подумать, что мой маленький, тихий, скромный город волею судьбы и Божьим попущением станет столицей когда-то огромного Русского государства...
Никто не нашёлся, что сказать. За столиком воцарилась тишина, которую нарушали лишь бравурные звуки какого-то марша, летевшие с эстрады Приморского бульвара. Огромное раскалённое солнце, озарив напоследок чёрно-красным пожаром горизонт, скрылось за Константиновской батареей. Сделалось сумрачно и как-то тоскливо.
[2] Щербак Александр Ефимович (1863 – 1934) – выдающийся врач-невропатолог, профессор. В 1911 году приехал в Севастополь из Варшавы и принял активное участие в организации Института физических методов лечения, который и возглавлял до последних дней жизни. Покоится на старом городском кладбище на ул. Пожарова.
[3] Адрес петроградской Чрезвычайной комиссии.
[4] Шайки вооружённых бандитов, орудовавшие в горно-лесной местности.