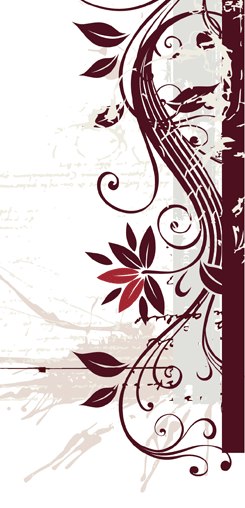В.Д. Миленко
ЕВРЕЙСКИЙ ТИП В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВ РУССКОГО ПЛУТОВСКОГО РОМАНА 1920-Х ГОДОВ
Опубликовано (ссылка обязательна): Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Вип.4(48). Харків: ППВ "Нове слово", 2006. С. 79-87.
Скачать автореферат диссертации http://avtoreferat.net/content/view/11388/31/
Русский плутовской роман 1920-х годов, являясь ярким фактом прозы ушедшего столетия, оставил в наследство отечественной литературе нарицательные образы маргинальных антигероев («детей лейтенанта Шмидта», Остапа Бендера), плутовские авантюры, ставшие символами («тараканьи бега», «билеты за вход в Провал»), широко разошедшиеся парадоксы, идиомы и афоризмы. Однако этот жанр по сей день остается малоисследованным, что объясняется запретом, наложенным на него партийной цензурой 1930-х годов.
Самым известным пикаро советской литературы безусловно является Остап Бендер – центральный персонаж плутовской дилогии И. Ильфа и Е. Петрова. Вопрос о национальной принадлежности Великого комбинатора до сих пор открыт, чем объясняется стремление исследователей к поискам его жизненных прототипов. Наиболее упоминаемыми претендентами являются старший брат И. Ильфа Александр Файнзильберг (Л. Яновская), Валентин Катаев (С. Беляков) и Остап (Осип) Вениаминович (Беньяминович) Шор (В. Лебедев). Как видно, все установленные прототипы являются евреями, что позволяет отнести образ Бендеру к типу еврея-пикаро, широко представленному в плутовской прозе 1920-х годов.
Появление плутовского образа еврея в прозе 1920-х годов явилось отражением конкретно-исторической ситуации, сложившейся в России после отмены «черты оседлости» в 1917 году. По словам И. Сельвинского, после революции «<...> лишенные науки и искусства, отрезанные от военной, морской, железнодорожной и других профессий, еврейские юноши, не желавшие корпеть над заплатами и нюхать аптекарские капли, увидели романтику в уголовщине. Так родились знаменитые одесские налетчики <...> Они создали свой мир…Октябрь сдул с России все рогатки, барьеры…Россия ста народов хлынула в революцию <...>» [7, с.131-132]. Образ еврея-пикаро возник в литературе наряду с образами еврея-налетчика (Беня Крик из «Одесских рассказов» И. Бабеля, Филипп из «Интервенции» Л. Славина) и коммуниста-«еврея по анкете» (Левинсон в «Разгроме» А. Фадеева, Штокман в «Тихом Доне» М. Шолохова и другие). Еврей-пикаро, как правило, наделен специфическими национальными характеристиками (космолитизмом, протеистичностью, предприимчивостью, остроумием). Первые две черты характера позволяют ему выживать и ассимилироваться в любой национальной и культурной среде, одновременно сохраняя самотождественность. Коммерческая жилка такого персонажа, как правило, определяет род его профессиональной деятельности: чаще всего это бывший коммивояжер, ставший в годы нэпа комммерческим воротилой. Остроумие еврейского героя составляет значительный пласт комики плутовского романа, в текст которого вводятся еврейские пословицы и анекдоты, двуголосое стилизованное слово (еврейский «суржик»).
В настоящей статье нам хотелось бы охарактеризовать художественные образы плутов-евреев, практически не привлекавшие внимания исследователей. С этой целью мы рассмотриваем центральных персонажей плутовских романов «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца» И. Эренбурга, «Форд» Ю. Берзина и «Минус шесть» М. Ройзмана, созданных авторами- евреями и посвященных «еврейскому вопросу».
Плутовской роман Ю. Берзина «Форд» был выпущен ленинградским издательством «Прибой» в 1927 году (за год до появления «Двенадцати стульев» И. Ильфа и Е. Петрова). Главный герой произведения – бывший коммивояжер Калман Янкель, а ныне «нэпман» Константин Форд - живет в соответствии с древним принципом «Лови момент!», которым руководствовались еще герои романа Петрония «Сатирикон», стоящего у истоков плутовского жанра. «Я люблю работать по-американски», - заявляет Форд. – «По-моему, главный принцип в каждом деле, это – лови момент. Как говорит наша русская пословица, - куй железо, пока горячо» [2, с. 28]. «Ленивым и тяжелым» голосом герой излагает напарнику, «спецу по галантерее» Савину, свою нехитрую жизненную философию: «Я увидал столько людей, - у вас в двадцать втором году столько рублей не было, сколько людей я видал <...> И я пришел к такому убеждению: людей на свете миллионы <...> а все они делятся только на два сорта: с которыми можно дело делать и с которыми нельзя дело делать» [2, с. 14]. Коммунисты, пришедшие к власти, по мнению Форда, «второй сорт людей», с которыми «нельзя дело делать», поэтому он опутывает советских «ответственных работников» сетью плутовских интриг, вовлекая в свои коммерческие махинации. Цинизм Форда соседствует с обаянием и артистизмом, способностью менять роли и маски. Например, «спецу» Цукернику Форд представляется «Днепровым-Вольским, артистом». Характерно, что такой же выжига Цукерник сразу разоблачает самозванца: «Ваша фамилия так же Днепровольский, как моя – Троцкий <...> и вы такой же артист, как я профессор…» [2, с. 51].
Для национальной индивидуализации образа Ю. Берзин прибегнул к стилизации разговорной манеры русских евреев. Для речи Форда характерны многократно повторяющиеся тавтологии и ложное глубокомыслие: ««Когда мне стало шестнадцать лет, мне мой отец сказал: «Костя <...> ты уже большой и ты должен избрать себе специальность<...>». И я ему ответил: «Папа, я буду коммивояжером». И он сказал: «Хорошо, Калман, будь коммивояжером» [2, с. 14]. «Социологическим маркером» (А. Дмитриев) принадлежности героя к миру спекулянтов являются многочисленные поговорки: «Были бы деньги», «Даешь – берешь», «туда-сюда, кому в руки, кому в зубы, подавись, только ша – молчи!», «Живи сам и дай другому жить!», «Ближе к делу» и т.д.
Вставной новеллой вводится в повествование биография другого центрального персонажа романа – еврея Михаила Моисеевича Шарфштейна (глава V), бывшего фабриканта и купца 1-й гильдии, «почетного гражданина города Двинска». После революции разорившийся купец попеременно торговал на «нижегородской толкучке <...> готовым платьем, табаком, казенным обмундированием, рыжиками, сахарином и патентованными резиновыми подметками» [2, с. 30]. Нэп открыл перед бывшим купцом и прирожденным коммерсантом массу возможностей, и уже к 1921 году «спекулянт с толчка снова стал Михаилом Моисеевичем Шарфштейном довоенного времени» [2, с. 30].
Главный герой романа М. Ройзмана «Минус шесть» - также бывший московский купец первой гильдии. Заглавие книги Ройзмана, написанной в 1925 году и опубликованной в 1928 году, было говорящим для всех российских евреев. Идиома «минус шесть» означала запрет на проживание в шести крупных городах страны. Автор сосредоточил внимание на жизни отдельно взятой еврейской семьи: Арона Соломоновича, его брата Наума, жены Цецилии и сына Доди Шарфштейнов. Поэтапно прослеживая деградацию своего героя, Ройзман иронически восклицает: «Что ни делает еврей, когда у него жена и пятеро детей!» [5, с. 22].
После октябрьского переворота Арону Фишбейну пришлось наматывать на тела родственников собственное сукно и ткани, прятать бриллианты в дровяном шкафу, заводить «нужные» знакомства, спасать сына от призыва в Красную Армию…. Ройзман рисует среду обозленных и в ужасе ожидающих погромов московских евреев. Фишбейн и подобные ему персонажи романа в период 1917-1921 годов успели сменить массу ролей: «сочувствующих эсэрам», «истинных пролетариев», «корниловцев», наконец «красных купцов». Верхом цинизма и апатриотизма предстают следующие рассуждения Фишбейна: «- Если дело осталось за юнкерами, то, ведь, в нашем доме масса офицеров! <...> Если же, не тут сказано, верх взял товарищ Ленин, - у нас есть надежда на известного народника, господина Вахромеева!» [5, с. 16]. В зависимости от того, за кем «осталось дело», в квартире Фишбейна появлялись портреты Керенского, Карла Маркса и Троцкого, Деникина, снова Карла Маркса…. Арон Соломонович, славившийся своей выдержкой и мудростью, поначалу рассуждал так: « - Временное правительство сделало выкидыш на восьмом месяце. Почему это правительство не временное и не выкинет на шестом? Новая власть – новые деньги – новый расчет! Давайте, немного подождем!» [5, с. 20]. В 1917-ом году Фишбейн фамильярно размышлял о том, что «Романов <...> отказался от верного дела и оно перешло в руки Керенского», в 1919-ом году Арон заметил, что Свердлов в гробу «лежит себе еврей, как все евреи» и т.д. Он был спокоен, т.к. рассчитывал на то, что к власти пришли сплошь евреи, которые, вероятно, не обидят «своих». Однако вскоре Фишбейн все понял: « - Приехали неизвестные люди из Одессы, Смоленска, Грязовца, чорт знает откуда! И каждый сапожник, каждый портной стал комиссаром. Мне же, коренному москвичу, в Москве не находится места. Что я – интеллигент с протертым задом? Что я – за саботаж? Почему мне вместо службы и пайка дают карточку В?» [5, с. 41]. Конфликт героя с новой властью, углубляясь, приводит его к краху: Фишбейна с семьей выселяют из Москвы.
Характер символа в романе «Минус шесть» приобретает метафора члены Совнаркома/ синагога, которая достигает максимальной образности в следующем развернутом сравнении:
« - Интересно знать, Троцкий тоже ест мацу?
- Не шутите Троцким <...> Это второй Наполеон.
- А я скажу: нет! <...> Ленин, подобно Моисею, пишет скрижали, Свердлов, подобно Арону, говорит устами Ленина, Троцкий…. Что представляет из себя Троцкий? Он ни больше, ни меньше, как Иошуа Навин! Когда Ленин, подобно Моисею, подымает руки, Троцкий побеждает и побеждает язычников!…» [5, с. 27].
М. Ройзман показал великую историческую эпоху глазами рядового еврейского обывателя. С аналогичной точки зрения жизнь России и Европы конца 1920-х годов изобразил И. Эренбург в романе «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца». Судьба этого произведения сложилась непросто. В 1960-х годах в мемуарах «Люди, годы, жизнь» писатель с грустью отмечал, что «книга эта малоизвестна» [11, с. 456] . Сегодня роман о гомельском портном Лазике, напротив, называют «самым известным романом Эренбурга» (Арк. Львов). Автор послесловия к первой публикации романа в СССР А. Рубашкин характерно озаглавил свою статью «Швейк из Гомеля», тем самым включив Лазика в мировую плутовскую литературную традицию. В 1991 году роман вошел в девятитомное собрание сочинений И. Эренбурга с подробным комментарием Б. Фрезинского. Из последних работ, посвященных поэтике романа, следует отметить статью Т. Журчевой «Роман И. Эренбурга «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца» как воплощение трагикомического мироощущения автора» (Самара, 2001).
Образ главного героя романа - гомельского портного Лазика Ройтшванеца - имеет огромную фольклорно-литературную родословную. Фольклорный генезис очевиден: Лазик – типичный шлимазл (простофиля) еврейской сказки . Национальные корни восходят к образу Вечного Жида. Перечисление литературных прототипов Ройтшванеца, вероятно, могло бы составить
длинный список; мы ограничимся наиболее очевидными и близкими по времени. Назовем Фишку Хромого из повести Менделя Мойхер-Сфорима «Фишке дер Крумер» («Фишка Хромой») (1869); Тевье-молочника из новеллистического цикла Шолом-Алейхема «Тевье-молочник» (1894-1914), а также Мойшу Капойера (приблизительный перевод фамилии — Вверхтормашкин), популярного комического персонажа периодической печати на идиш в 1920-х годах. Зарубежная критика конца 1920-х годов окрестила Ройтшванеца «еврейским Швейком». Б. Фрезинский указал на роман Я. Гашека «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны» (1921-1923) как один из наиболее вероятных литературных источников, подтолкнувших писателя к созданию романа о Лазике [8, с. 577]. С этим нельзя не согласиться – концепция образа героя (маска идиота) и обилие «рассказов об одном приятеле» роднят Ройтшванеца и Швейка (несомненно и созвучие фамилий). В конце концов, сам И. Эренбург назвал Лазика «духовным родственником Швейка».
Связан Лазик и с традицией мировой карнавальной литературы – с образом маргинала-урода, наделенного «гротескным телом» (М. Бахтин) и занимающим промежуточное положение между фольклорным и инфернальным плутами. От первого Лазик унаследовал низкое социальное положение, нищету и авантюризм, а от второго - уродство (карликовый рост). Герой наделен автором не только гротескным телом, комическим гомельским «суржиком», но и шутовской фамилией. Исследователи романа предпринимают попытки перевести на русский язык второй компонент фамилии Лазика - «шванец». Мнения расходятся. Т. Журчева опирается на перевод с немецкого: «Слово «шванец» <...> вызывает ряд вполне определенных ассоциаций. «Schwein» по- немецки «свинья» (слово того же корня и того же значения есть и в языке идиш, близко родственном немецкому)» [3, с. 158]. Аркадий Львов предлагает свой вариант: «А "шванец", или, точнее, "шванц"- что это? Буквально: "хвост", в переносном смысле "конец". Но есть у этого слова еще одно значение, хорошо известное киевским, одесским, херсонским евреям, которые, желая выразить свое непочтение к человеку, не прибегая к известному русскому слову, говорили о нем просто: "Шванц!" В сочетании со словом "рейт", поставленным впереди, как в фамилии Лазика, получаем в переводе на русский два варианта: "Краснохвост" или "Краснофуй", с допустимыми модификациями в виде "Краснохвостов" или "Краснофуев" [4, с. 16].
Само рождение на свет Ройтшванеца изображено Эренбургом в «шутовском циническом аспекте» (М. Бахтин). Родителей Лазика поженили на кладбище, чтобы «немножко развеселить смерть». Для того, чтобы остановить эпидемию холеры, жители Гомеля нашли «самого несчастного еврея», нищего Мотеля Ройтшванеца, у которого «был, кроме печальной фамилии, большущий горб», и дали ему в невесты «самую несчастную девушку», которая была хромой. В результате этой шутовской свадьбы и родился карлик Лазик Ройтшванец . В этом эпизоде смерть соседствует со смехом и с рождением человека, что, по словам М. Бахтина, символизирует «целое торжествующей жизни» [1, с. 348].
Родившись в результате свадьбы на кладбище, Ройтшванец навсегда приобрел способность иронизировать над смертью, следующей за ним по пятам. Мотив голодной смерти, постоянно сопутствующий Лазику, придает анекдотическим эпизодам романа трагикомизм, ибо все плутни и забавные авантюры героя мотивированы голодом. Тем самым в плутовской прозе ХХ столетия возрождается один из лейтмотивов классического плутовского романа. Образ голодного Лазика Ройтшванеца в конечном итоге восходит к голодному Ласарильо из Тормеса, герою первого испанского плутовского романа ХVI века (имя Лазик – уменьшительное от Лазаря).
В результате скитаний по миру Ройтшванец приходит к страшному выводу: «... когда гуляет по улицам стопроцентная история, обыкновенному человеку не остается ничего другого, как только умереть с полным восторгом в глазах» [10, с. 55]. Похождения Лазика Ройтшванеца в Советской России, а затем в Западной Европе и Палестине представляют собой длинную цепь абсурдных, анекдотических эпизодов, которые в совокупности иллюстрируют основную идею романа – о бесприютности еврейской нации, о бесконечности ее страданий. Для гомельского еврея Лазика Ройтшванеца весь мир – «один большой Гомель-Бердичев-Кременчуг-Крыжополь», потому что, где бы он ни оказался, он повсюду встречает евреев. «<...> Рим тоже город, и туда тоже можно попасть, и самое смешное, что там живут евреи, совсем как в Гомеле», - говорит Лазик [10, с. 120]. Но нигде он не видел счастливого еврея. По словам Б. Фрезинского, роман Эренбурга о том, что «маленькому человеку нет счастья и покоя, а если он к тому же еще и еврей, то нет и места на земле» [8, с. 578].
Г. Шульпяков, сравнив биографию писателя И. Эренбурга и его литературного героя Лазика Ройтшванеца, пришел к следующему выводу: «Илья Григорьевич напоминает героя собственного романа <...> В какой-то момент кажется, что писателю, как и его герою, надо совсем немного – на фоне высокопарных обличений в газетах ли, в собственном ателье им нужно: Лазику – шить и продавать штаны, Эренбургу – ездить в мягком экспрессе Петербург – Москва; Лазику – не попадаться на глаза фининспектору, Эренбургу – не слышать свиста пуль, не голодать и не видеть ячеек, где, «чуть что, сразу хватают». Кто скажет, что Лазик и Эренбург не правы?» [9, с. 62]. Учитывая факты бурной, бродячей жизни Эренбурга и то, что он сам себя называл Вечным Жидом, следует согласиться, что одним из прототипов Лазика мог быть автор романа.
Количественный процент персонажей, подобных Ройтшванецу, Фишбейну, Шарфштейну, Форду в советских романах 1920-х годов позволяет выделить их в отдельный плутовской национальный тип, который был представлен в прозе названного периода наряду с архетипами фольклорного плута (портной Фокин в повести Вс. Иванова «Чудесные похождения портного Фокина»), беса-пикаро (Коровьев и Бегемот в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита»), попа- пикаро (отец Федор Востриков в романе И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев»), веселого жулика (Ртищев в повести А. Толстого «Похождения Невзорова, или Ибикус») и другими. Образ еврея-пикаро закономерно оказался востребованным и в новейшем российском плутовском романе, отражающем реалии постсоветской переходной эпохи (например, Шендерович в романе М. Галиной «Гиви и Шендерович»).
ЛИТЕРАТУРА
1. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. – М.: Художественная литература, 1975. – 504 с.
2. Берзин Ю. Форд. – Л.: Прибой, 1927. –122 с.
3. Журчева Т. Роман Ильи Эренбурга «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца» как воплощение трагикомического мироощущения автора // Художественный язык литературы 20-х годов 20 века. – Самара: Изд-во СГПИ, 2001. – С. 152-168.
4. Львов Арк. Мечты Лазика Ройтшванеца // Одесса. – 1998. - № 4- С. 15-18.
5. Ройзман М. Минус шесть. – М.: Советский писатель, 1928. – 122 с.
6. Рубашкин А. Швейк из Гомеля: О романе «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца» // Звезда. – 1989. – N 9. – С. 170-173.
7. Сельвинский И. О, Юность моя!/ Сельвинский И. Собр. соч.: В 6 т. – Т. 6. – М.: Художественная литература, 1971. – С. 131-132.
8. Фрезинский Б. Комментарии// Эренбург И.Г. Собр. соч.: В 8 т. – Т. 3. – М.: Художественная литература, 1991. – С. 576-585.
9. Шульпяков Г. Лазик Ройтшванец в жанре эссе // Новый мир. – 1998. - № 2. – С. 61-62. .
10. Эренбург И. Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца / Эренбург И.Г. Собр. соч.: В 8 т. – Т. 3. – М.: Художественная литература, 1991. – С. 7-215.
11. Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Воспоминания: В 3 т. – Т. 1. – М.: Советский писатель, 1990. – 430 с