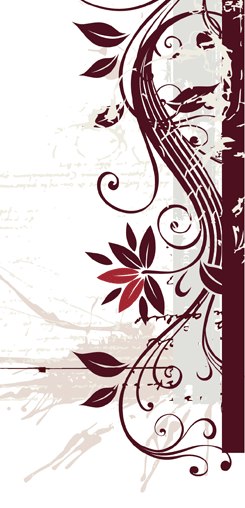САША ЧЕРНЫЙ И ФОКС МИККИ
Публикуемый фрагмент был утрачен после редактирования рукописи монографии В. Миленко "Саша Черный: Печальный рыцарь смеха" ("ЖЗЛ". М.: Молодая гвардия, 2014). Автор восстанавливает его в память о собственной собаке. Действие разворачивается летом 1932 года на пляже Ла Фавьер (Франция, Борм-ле-Мимоза), где у Саши Черного был дачный участок.
____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Летний сезон 1932 года для всех русских эмигрантов начинался невесело. 6 мая казак-эмигрант Павел Горгулов застрелил президента страны Поля Думера. И теперь несчастные соотечественники убийцы в страхе ожидали для себя последствий.
Ла Фавьер, светлый рай Саши Черного, тоже наполнился тяжелыми слухами. К тому же у поэта, ликовавшего от возможности одиночества, появился трудно переносимый сосед. О этом вспоминал сын его приятеля Костантин Парчевский, бывший тогда мальчишкой: «Во время совместных прогулок с Сашей Черным я все время без умолку болтал. И помню, даже как—то спросил, не надоела ли ему моя болтовня. Он рассмеялся и ответил: “Напротив”. А дело в том, что рядом приобрел участок очень болтливый и глупый человек и так досаждал Александру Михайловичу, что тот не знал, как от него избавиться».

Панорама пляжа Ла Фавьер,
где в конце 1920-х гг. возникла "колония" русских эмигрантов
Из известных нам фавьерцев тех лет под это описание подходит поэт Антонин Ладинский, коллега Черного по «Последним новостям». Очень высокий и худой, рано поседевший, никогда не улыбающийся и совершенно не понимающий юмора, — таким описала этого человека Нина Берберова (Берберова Н. Курсив мой. М.: Согласие, 1996. С. 322). Она же вспоминала, что Ладинский был болен ностальгией, всех ненавидел, всем завидовал. На ноге у него кровоточила незаживающая рана, и он постоянно жаловался на нее. Именно Ладинский оставил важное свидетельство о последних днях Черного: «Ему надоело скитаться и мотаться по белу свету, и он решил окончательно обосноваться в полюбившемся Провансе, среди виноградников и холмов Фавьера» (Ладинский А. Похороны А. М. Черного // Последние новости. 1932. 9 августа). Похоже, поэт подумывал о том, чтобы окончательно стать фермером, хотя, если наша догадка о докучливом соседе правильна, то он мог говорить Ладинскому первое, что пришло в голову, — лишь бы отвязаться.

Поэт с Микки. Ла Фавьер (1929-1932)
Итак, Саше Черному приходилось сбегать. В одном из стихотворений этого времени мы видим их с Микки прячущимися под кустом тамарикса на мысе Гурон. Поэт ощетинился на весь мир:
…если в этот трижды мирный час
Припрется дачник из лесного дома
И заскулит — в четырнадцатый раз! —
О кризисе, о близости разгрома, —
Вся святость, к дьяволу, с тебя слетает в миг...
Ты, в душу впившийся, гундосящий репейник!
С какой бы радостью тебя, копченый сиг,
Всадил бы я башкою в муравейник!..
(«Под тамариском», 1932)
Увы, чем популярнее становился Ла Фавьер, тем больше здесь появлялось случайных и не слишком приятных людей. Одна из обитательниц поселка вспоминала, что виной этому стали предприимчивые «дамы из Одессы», которые «понастроили длинные домишки с отдельными комнатушками, дешевое общежитие, его называли Авгиевы конюшни. Хозяйки кормили дешево своих постояльцев русским борщом и пирожками» (Родинова Галина. В Провансе в предвоенные годы…). Поэтому и рыдал под кустом тамарикса Саша Черный: куда деваться от людей, Господи?! Рыдал — и сам над собой смеялся:
Подарить тебе весь берег,
Чтобы ты земле и небу
Не устраивал истерик?
(«Без вакансий», 1932)
Не нравилось ему и то, что под соснами в изрядном количестве распространились ржавые консервные банки и автомобили. Шоферы из Лаванду спали за рулем, ожидая тех сумасшедших, что захотят втридорога прокатиться в деревню. В Фавьере стало меньше тишины и больше пьяных. Вот и сейчас в раскаленном воздухе надрывается и хрипит граммофон; совсем рядом кто—то поет и смеется. В домике «Бастидун» собралась молодежь.
...Пик жары. Полдень. Зарывшись в песчаную дюну и прогревая больную лопатку, лежит на пляже Саша Черный. Микки он отпустил купаться с детьми, голову закрыл канотье, с которым не расстается, и подглядывает из-под шляпы. Пляж — это нечто вроде бани, никто не стесняется. Вот один сосед, «задрав клешнею ногу», роет детской лопаткой песочек, другой учит плавать своего малыша, а вот мотается взад—вперед немец, «локти к брюху», тренируется («Солнечная ванна», 1932). Из воды то и дело появляются такие наяды, что подглядывающее око невольно закатывается или жмурится. Нравы стали совсем свободные, и одежда на наядах есть не всегда. Да и на доморощенных фавнах тоже:
…в воде, на мелком месте, —
Темя в шлемах — огурцами
Два обглоданных нудиста
Притворяются пловцами.
(«Солнечная ванна», 1932)
Новые свободные нравы перекочевали сюда с острова Дю Леван, что напротив соседнего городка Йер, по направлению к Тулону. В прошлом году там возникла нудистская колония Гелиополис. Конечно, фавьерцы ездили посмотреть на это удивительное зрелище. Вездесущая Людмила Сергеевна Врангель организовала поездку на моторной лодке на Леван и на соседний с ним остров Пор Кро. Устраивали пикник, пели под мандолину.
…О, неет! На разварившегося на солнце Черного полетел фонтан холодных брызг: Микки выкатился на берег. Мокрое, тощее, дрожащее чучело, отряхиваясь, помчалось куда-то вбок и, страясь вытереть морду, ерзает по песку, оставляя длинные борозды. Ну как потом из этих несчастных ушей вытряхивать все, что застряло и приклеилось?!
Подошло время обеда. Александр Михайлович с собакой бредут домой, на свой холм, который теперь уже вполне законно все называют Русским Холмом. Попутно поэт приветствует новых фавьерцев: выдающегося дирижера Николая Черепнина и своего «брата» по масонской ложе математика Эрванда Геворгиевича Когбетлянца.

На вершине Холма.
Семья Гликберг: Александр Михайлович, Мария Ивановна и Микки.
Не успели подняться к домику, как снова пришлось бежать вниз, откуда призывно загудел клаксон велосипеда — из Лаванду приехал почтальон.
Велосипед лежит в траве.
Старик порылся в сумке.
Нос в сизых жилках. Щеки — мак…
Кто здесь считает рюмки?
(«Почтальон», 1931)
Черный не осуждает «почтальона почтенного» за пьянство, ведь знает, что у того в прошлом — «огненный Верден, солдатское распятье» («Почтальон»). Поэт с благодарностью берет прессу и пару писем, снова возвращается на Холм и устраивается в гамаке. Набил табаком трубочку. На груди — мандолина, под ногами на земле Микки растянулся «лягушкой». Как истый трубадур, Александр Михайлович затягивает кансону. Микки немедленно начинает испуганно выть: перестань, хозяин! Черный смеется, оглядывая друга: недавно он его постриг.
Зигзагом вверх и вниз:
Спина собачья стала
Как зубчатый карниз…
(«Фокс», 1932).
И так сойдет.

"Зубчатая" стрижка собаки видна отчетливо
Этим двоим больше никто не нужен. Саша Черный исповедует известную религию: «Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки».
Что там, Микки, что? Александр Михайлович наклоняется к малышу, а тот «приклеился носом к руке»: помоги, клещ в ухе одолел.
Фокс мой сморщил резиновый нос, —
Операцию он, как герой, перенес…
Но без слов
Понял кроткий упрек я собачьих зрачков:
«Ах, хозяин, ищи не ищи, —
Через час снова будут клещи…»
(«Фокс»)
Благодарный Микки удирает на луг к козам. Черный продолжает бездумно качаться в гамаке. Лениво потягивает кисловатый «пинар» - местное фермерское вино, подливая себе из «бонбона» - большой бутыли, оплетенной мягкой соломой. С любовью обводит глазами свой небольшой садик: «Олеандры, мимозы, глицинию, тонкую грушу / И перечных два деревца…» («Вода», 1931). Выглядят они весело: лето выдалось дождливым. А вот для виноградника это плохо: на листьях появились белые пятна, обернуть нужно от влаги, пропадет виноград.
Вернулся Микки. Лезет прямо в лицо, стараясь лизнуть в губы. Черный протягивает ему стакан «пинара» — пес, ощерившись, испуганно отступает задом. Хозяин улыбается:
Ну что же, не хочет — не надо…
Я выпью, пожалуй, один.
За ветер! За светлое море!
За мир провансальских долин.
(«Прованс», 1930)
И так каждый день.
Утром — по тропинке «вдоль холма за водой», к колодцу под оливковым деревом:
А сзади фокс, бородатый шотландец
Бредет, зевая, за мной по пятам.
Здравствуйте, светло—зеленые лозы!
Шелест ответный бежит по кустам…
(«Прованс. У колодца», 1930)
Однажды Александр Михайлович нашел источник шелеста. Оказалось, это Микки шарит по плантациям и поедает виноград: «Боже мой! Мой эмигрантский фокс, мой честный интеллигентный пес нагло нарушал добрые провансальские нравы: переходил от лозы к лозе, выбирал самые спелые гроздья и ел чужой виноград…» («Фокс—воришка», 1932). Черный обругал пса, но тот ни капли не боялся хозяина. Ругать собаку за такие проделки совершенно бессмысленно, она никогда не поймет, однако же, забегая вперед, заметим, что следить за ним поэту нужно было лучше. Неужели он не знал, что иная крестьянская душа, неважно русская или провансальская, способна за украденную у нее виноградину на преступление? Похоже, не знал, и боготворил хозяина виноградника, своего соседа—француза:
Благослови, Господь, простых чужих людей,
Их ясный труд и доброе молчанье.
(«Сбор винограда», 1928).
Благодарный Ла Фавьеру, Черный поставил скамейку прямо на вершине Холма, «Выбрав место у тропинки / Где сквозь бор синеет море» («С холма», 1932). Выкрасил ее «лазурной краской / Цвета крыльев Серафима» и посвятил всем пилигримам, что придут сюда посидеть, подумать и поглядеть на море.
Да и сам приду не раз я
Посидеть Наполеоном,
Руки гордые сложивши,
В одиночестве зеленом...
Но не придет. Это стихотворение будет напечатано в «Последних новостях» 6 августа 1932 года рядом с… некрологом памяти Александра Михайловича Гликберга.